Актер Владимир КОНКИН: «Из меня козью морду сделать хотели — нужно было показать, что Конкин — алкалоид какой-то, в собственных детей стреляет»


(Продолжение. Начало в № 6, № 7)
«Если я чуть-чуть оступился или лишнюю рюмку выпил, — опять же по делу! — тут же: «Ага, вот он какой!»
— Вы, так уж вам посчастливилось, двух народных героев — Корчагина и Шарапова — сыграли. Такие роли — это идеал, мечта или тяжкий крест и повлияли ли они на всю вашу последующую актерскую биографию?
— В вашем вопросе ответ заключен: это и идеал, и мечта, и тяжкий крест одновременно, потому что да, Павка Корчагин — воплощение лучших человеческих качеств, но сам-то я не идеален и постоянно в этом образе жить не могу... Хотя в театральном училище у меня кличка Идеал была, потому что все успевал: и в университете на историческом учился, и за будущей супругой ухаживал, и с отличием все окончил, и женился, — так что право на прозвище как бы имел. С другой стороны, я далеко не идеален, хотя в оценке твоей плюсики появляются, когда ты Корчагина делаешь, Игоря Суслина в «Аты-баты, шли солдаты» у Ленечки Быкова, Шарапова, Аркадия Кирсанова в «Отцах и детях» по Тургеневу...
Положительные герои очень нужны нашему обществу во все времена, но люди у нас так устроены, что если Корчагина ты сыграл, должен даже в баре им оставаться. Если Шарапова ты сыграл, у тебя просто пылинки от твоей форминки должны отскакивать, понимаете? — а это невозможно, и как только кто-то видит: «Пылинка-то, вот она... А-а-а! Вот он какой, этот Конкин», — упреки, нападки начинаются.
Я это явление «конкинизмом» называю. В конце концов, все мы — живые люди, и если я чуть-чуть оступился или лишнюю рюмку выпил, — опять же по делу! — тут же: «Ага, вот он какой!»... Между тем в непотребном состоянии никто меня никогда не видел, тем паче под забором я не валялся, но всяко, конечно, бывает... А ведь когда кто-то тебя дразнит, провоцирует, можно если не в ухо дать, — я не драчун! — то словом зафингалить, а этого не прощают.

— Если не ошибаюсь, судьба вам встречу с большим художником подарила, у которого тоже, скажем так, неоднозначная была репутация, — я о Василии Шукшине...
— Ой, да, мы два часа с ним проговорили — это моя первая и последняя встреча с Василием Макаровичем была. Если пунктирно, в мае 74-го я из Театра Моссовета в Волгоград прилетел с Харьковским ТЮЗом спектакль «Свой остров» играть — у меня там роль еще до Корчагина была. Аншлаг, все замечательно, отработал — и сразу в аэропорт, однако в Москву улететь не удалось: погода нелетная. На час рейс откладывают, на два, на три... Народу — не протолкнуться, дети под ногами вертятся... Помните, раньше в буфетах — что на железнодорожных вокзалах, что в аэропортах — круглые мраморные стойки были? Вокруг них люди толпились, и только один столик у окна на общем фоне выделялся. Облокотившись на него, человек стоял, перед ним — стаканов 20 бочкового кофе, который пить нельзя было: ну от силы глоток сделаешь. Я понял, что это Василий Макарович — по профилю узнал, и люди его узнавали...
— Поэтому и не подходили...
— Это вот чувство такта —хорошая русская черта: мы не только царство хамов олицетворять можем, но и деликатность в нас есть, только нас не дразни, чтобы дубину-то не взяли, правильно? Я все-таки дерзнул к нему подойти: «Василий Макарович, — сказал, — извините, пожалуйста... Я Конкин». Он от своих записей оторвался — замусоленные две тетрадки по 40 копеек перед ним лежали, взглянул на меня: «А, Конкин», — как будто я здесь всегда стоял, дружу с ним. Вообще-то, для меня до сих пор как награда, что Шукшин сразу же меня приветил, а он, если помните, у Бондарчука снимался...
— «Они сражались за Родину», последний его фильм...
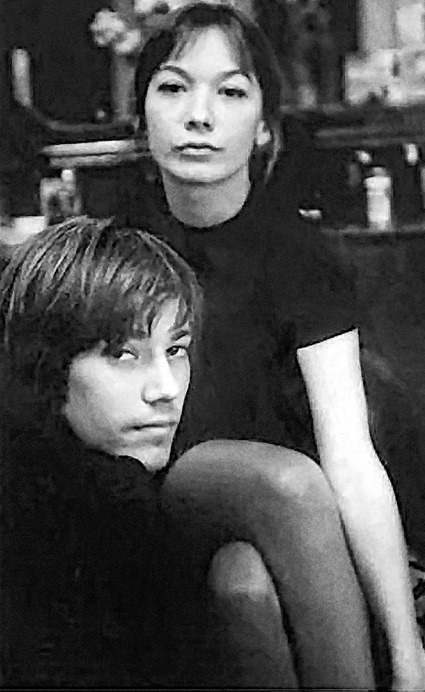
— Совершенно верно. Мы разговорились... Беседа почти два часа продолжалась и закончилась тем, что он сказал: «Слушай, а я тебе писаря предложу, а то сейчас тебя эксплуатировать будут — Корчагиным этим замучают». — «Я от этого отказываюсь». — «Ну ты еще много шишек за «кожанку» эту получишь». Как в воду глядел... Когда я стал от «кожанок» на всех студиях: от «Мосфильма» до «Казахфильма» — отказываться, сразу ярлык мне повесили: а, звездная болезнь, зазнался... Тогда это ругательно было — не то что теперь. Сегодня все артисты, еще ничего не сделавшие, уже звезды, мега-звезды, созвездия, и взирать на них — удел астрономов.
Короче говоря, писарем! Я уже возликовал, но ничего из этого не получилось, потому что через несколько дней Шукшин из жизни ушел. В Москву слетал, назад вернулся — и все!
— Печать смерти тогда у него на лице была?
— Я никакой печати не видел, просто восторженно на очень дорогого мне человека и актера смотрел. Я его фильм «Два Федора» очень любил...
— Ранняя картина... 58-й год, по-моему?

— Да, и мне так Шукшин нравился — у них с Тамарой Семиной хороший дуэт, и он настоящий такой.
Я вам честно признаюсь... Когда в институте учился и некоторые ребята отрывки Шукшина брали, наши педагоги неодобрительно к этому относились: мол, какое-то это все (скривился), и когда я его рассказы прочитал, они мне лубочными, какими-то псевдоправдивыми показались. Я таких по разговору, по тону людей не любил — народненьких, потому что Лескова читал... А как Лев Николаевич народные сцены описывал! Помните, Акима из «Власти тьмы»? «Обиды мне, тае, никакой нет, обиды нет, значит, а только что, тае, вижу я, значит, что к погибели, значит, сын мой, к погибели сын, значит»... Ты тае, не тае — этим вот сочетанием все выразить можно.
Кстати, у Достоевского дивный «Дневник писателя» есть, в некоторых местах матом все, одни многоточия, это гениальное совершенно произведение: шестеро пьяных мастеровых все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним немногосложным ругательством выражают. Не произнеся ни единого другого слова, Федор Михайлович удивлялся, излюбленное ими словечко с разной интонацией шесть раз кряду, один за другим, они повторили и поняли друг друга вполне.
Классика — это именно то, что мне близко, я был на этом воспитан, но шли годы, и когда уже Ленина в Ермоловском театре сыграл, там спектакль «Товарищи-граждане» по рассказам Шукшина затеялся. Андреев, главный режиссер, мне сказал: «Володя, вот рассказы шукшинские, Сергей Михалков инсценировки сделал», а мы с Сергеем Владимировичем дружили, с этой семьей в очень хороших отношениях были, потому что я в «Романсе о влюбленных» снимался.
— ...у Андрона...

— Тут все, в общем, перекрутилось, и когда я «Страдания молодого Ваганова» прочитал, воскликнул: «Мне так понравилось!». Некое перерождение произошло, то есть даже к этому лубку, который в начале тебя оттолкнуть может, ты постепенно приходишь, и какое же счастье, когда его для себя открываешь. Недавно вот в Чите Первый Забайкальский кинофестиваль прошел, и первой там картину «Верую» показали, которую женщина-режиссер Лидия Боброва по трем рассказам Василия Макаровича Шукшина сняла. Очень хорошая работа, простая, без всяких накрученностей, о русских чудиках-мужиках, и так это дивно, так умилительно: я, не в первом поколении интеллигент, давно на мысли себя ловлю, что по такому автору соскучился.
«Сейчас снимают трусы, а кино разве снимают? Извините!»
— Сегодня вы снимаетесь?
— Нет.
— Вообще?
— Сейчас, Дмитрий, снимают трусы, а кино разве снимают? Извините!
— Молодых актеров «податливым мясом» вы называете...
— Может, и грубовато, но это в духе времени, потому что, к сожалению величайшему, они маму с папой продадут, не говоря о своих педагогах-наставниках, если те у них были. Я уж о совести, чести, достоинстве не говорю...
— За роль продадут?
— За нее, разумеется. Несмотря на то что и роль-то плохая, и режиссер — идиот, и такие же кретины вокруг, но они в этом вареве варятся — им очень хорошо. Другое дело, что мне это не нужно, но если учесть, что смена поколений происходит и я скоро вымру, наверное, это кому-то понадобится: сейчас же на это спрос есть.
Не знаю, пользуетесь ли вы иногда муниципальным транспортом... Я предпочитаю им добираться, потому что в Москве на машине ездить бессмысленно, от этой затеи я отказался. Вот если меня к Гордону везут, тогда, конечно, я еду, в окно смотрю и даже иногда вид делаю, как будто поплевываю, понимаете? (На самом-то деле этого себе не позволяю)... Так вот, я внимание обратил на то, кто в метро самые желтые газетенки с голыми тетками, с фаллосами пластмассовыми читает. Тети, которым за 50, — им в свое время любознательность удовлетворить комсомольское прошлое помешало (демонстративно рыдает)! — и с живым интересом страницы рассматривают: «Ой, у меня тоже такая была... Вот это да! — у Петьки такого не было». Противно!..
— А раньше книги читали...
— Мало того, внуков воспитывали, песни им пели, а сейчас внуков, своих кровинушек, за компьютер сажают — и все, понимаете?
— Владимира Алексеевича Конкина процитирую: «Возвеличивая глупость, наши правители огромную ошибку делают, власть безобразно поступила, спустив на людей свору телеразбойников... Я недавно руководителя одного из федеральных телеканалов в приватной беседе спросил: «Тебе не стыдно, что одно дерьмо или шоу уродов показываешь, которое другие уроды судят, а третьи потешаются?». — «Володя, добро в твоем понимании на Шарапове закончилось», — ответил он мне абсолютно цинично, короче, как Екатерина II говорила, «народ нищ, пьян, убог, сер, а чиновники воруют»...

— Ну согласитесь, что Конкин очень талантливый человек — это во-первых, а во-вторых, посмотрите, сколько здесь от Салтыкова-Щедрина. Беда в том, что новое наше поколение, политики сегодняшние русской беллетристики совершенно не читают, а там все написано, это тысячу раз было, так зачем же на грабли те наступать? Увы, как только кто-то в руки хотя бы минимальную власть получает, ему сразу кажется, что с него мир начался — эта метаморфоза происходит, даже если у него в подчинении хотя бы один человек, а если 10, а если 15? А если рубильник у тебя в руке и ты его по своему желанию включаешь и выключаешь? И когда я в ответ на свой вопрос циничную фразу услышал, понял, что это идеология...
— ...государственная политика...
— ...потому что чем больше хрюкать будут, тем больше междоусобицы этой появится. Вообще, я не понимаю, что у нас в России за сообщество молодых людей — «Наши»? А я-то кто? Не «наш»? А с кем «Народный фронт» воюет? Опять со мной, что ли? Ребята, что за терминология войны гражданской, кто ее придумывает? — и ведь это поддерживают: я вижу, как все холуи от восторга захлебываются. Некоторые певицы мэра нашей столицы до такой степени любили — до потери пульса. А-а-а! — при виде его женщина одна вся трепетала, но стоило с его головы кепку снять и из-под него кресло убрать, тут же трепетное женское сердце донельзя Путина возлюбило. Ну что это? И все в Думу лезут — просто эпидемия какая-то, а власть этими местами торгует, клевретов и адептов воспитывает.
«Если вы кровятину, попятину и передятину хотите показывать, Бога ради, но наряду с этими вашими радостями интересы некоего меньшинства надо учитывать»
— Я снова вас процитирую. «Если Медведев не с Конкиным, а с Comedy Club встречается, он уже не власть — почему бы ему публично мне руку не пожать, не сказать, что он на моих фильмах воспитывался?». Как вы к коллегам, которые с политиками дружат, относитесь?
— Дело в том, что и я с ними дружить расположен, мало того, честно вам признаюсь: не хочу из деликатности фамилии называть, но лично я только с Путиным и с Медведевым не знаком — всех остальных не только по экрану знаю, приватные беседы с ними вел: вот как с вами.
— Золотые, наверное, люди...
— Не только золотые — они действительно все беды нашей страны знают... «Так что же тебе, елки-палки, то-то и то-то сделать мешает?» — спрашиваю, и все почему-то туда, в потолок, смотрят...
— Господь Бог, видно, мешает...
— Клянусь вам: третье, четвертое лицо государства, и вдруг разговор затихает, собеседник взор горе обращает и вздох издает, и я все понимаю: есть силы такие, которые им не переплюнуть. На уровне дружества, приватной беседы это люди, которые Салтыкова-Щедрина читали и все наши боли и горести им известны, а в публичной своей жизни все наоборот делают: образование, медицину, социальное страхование уничтожают...
— А это правда, что во время одного из застолий вы стихотворение Пушкина прочитали и один из присутствующих олигархов спросил: «Это твое?»?
— Да, это так.
— Не получив ответа, он с горя стакан водки без закуски выпил?

— Дело в том, что такой случай не единожды был — у других промахи иначе выглядели, но суть та же, и это, к сожалению, об общем упадке нашей культуры свидетельствует. Ничего не попишешь, поэтому и говорю: если вы кровятину, попятину, передятину и так далее хотите показывать, Бога ради, но наряду с этими вашими радостями интересы некоего меньшинства надо учитывать, тех нескольких миллионов, которые это не смотрят, поэтому следующую передачу о чем-то хорошем сделайте — о той же Муму с удовольствием посмотрят. Почему же вы вообще этого избегаете?
— Не хотят, чтобы люди думали...
— ...и мне о каком-то рейтинге твердят: якобы зрители именно этого жаждут. Ложь! — ко мне никогда с опросами по этим рейтингам не обращались, и я об этом ору, об этом статьи пишу... Мы с вами разве впервые больную тему затронули? Вы вон мои статьи, высказывания, интервью цитируете... Понимаете, я этим сызмальства, может, даже до рождения заражен: не могу себя интеллигентом в первом поколении назвать, потому что меня еще до рождения поколения моих пращуров воспитывали.
«Помните? Стакан тяпнет — и в теннис, второй тяпнет — и теннисом закусывает,
а когда оркестром он дирижировал, я прямо в нем что-то такое, знаете, от фон Караяна чувствовал»
— В Советском Союзе многие вещи для нормального человека просто неприемлемы были, ну а вам в сегодняшней, современной России лучше, чем в СССР, живется?
— Вы знаете, вопрос-то, оказывается, не совсем простой, хотя, казалось бы, я мог бы сказать, что мне там жилось лучше. Лучше мне жилось лишь потому, что я молод был...
— ...и известен...
— Скажем так, но сейчас я тоже известен, хотя некоторые молодые люди переспрашивают: «Как ваша фамилия?» — и меня это безумно раздражает, однако те же молодые люди на мои спектакли что в Украине, что в Америке, что в Канаде, что в России приходят — где угодно, потому что эта дифференциация общества была всегда. Кто-то в театре никогда не был, но на футбол постоянно ходил — так в Советском Союзе было, так есть сейчас. Вот если бы нам показали, как наш Путин в театр пришел, как не просто Большой театр открыл, а «Лебединое озеро» до конца посмотрел и чтобы камера обязательно на его глаза наехала, и тогда мы поймем, что они видят: Одетту-лебедя или как в туалете мочат...
— В сортире...
— Да: да — какое слово перепутал.
— Разница есть?

— Притом великая. Он за эту фразу извинился, но, как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь, тем более когда властью человек облечен. Почему я с такой болью, в общем-то, по поводу Comedy Club высказался? Мне совершенно не важно — пускай он будет, но и Конкин должен быть. Иконкин, а? (Смеется). Как хорошо: Иконкин должен быть... А, господа? Так почему? Потому что так наши люди устроены: уж если Медведев как шофер Шварценеггера везет, значит, такие актеры и должны быть, если он с Comedy Club или с рокерами встречается, а Путин с байкерами на мотоциклах ездит, значит, вот они — образцы для подражания, а в театр-то, ребята? Увы, раз лидеры государства там не бывают, значит, и остальным ни к чему.
Все, что на уровне наших республик, в губерниях происходит — все-таки страна у нас пока еще огромная! — исключительно на местной власти лежит: ремонты театров, строительство новых очагов культуры, как раньше говорили, от того зависит, по сердцу это губернатору или нет. Если ему футбол нравится — тогда извините, а эта игра сейчас всем обязана нравиться, как и хоккей, как раньше теннис нравился, когда все с пузами вдруг ракетками махать начали — ну потому что, помните, кто у нас был? Стакан тяпнет — и в теннис, второй тяпнет — и теннисом закусывает, а когда оркестром он дирижировал, я прямо в нем что-то такое, знаете, от фон Караяна чувствовал. Понимаете, о нем как-то саги не слагают, но мы-то теперь знаем, что страну в одну секунду пропить можно — потом не восстановишь...
Извините, точку ставлю, потому что еще раз повторяю: я законопослушный человек и власть люблю, я обязан ее чтить, как маму с папой. Даже если бы мне родители в силу определенных причин чего-то не дали, я не имею права — простите, пожалуйста! — говорить: моя мама нехорошая была, а мой папа вообще был кусок крокодила. Да за одно то, что родился...
— ...спасибо!
— ...Господа благодари и молись за них, если они больно тебе сделали, поэтому власть я как законопослушный человек люблю, но в нижние уста ее целовать не могу... Помните, чем Тиль Уленшпигель себя спас, когда его повесить хотели? Король (а он уже перед эшафотом устроился: «Да, да, приступайте!») плута помиловать согласился, если его последнее желание не сможет выполнить, и тогда Тиль попросил Его Величество его в те уста поцеловать, которыми он по-фламандски не говорит (встает и задом поворачивается). Этого король сделать, естественно, не мог, и повешен Тиль не был.
Шарль де Костер — надо классику знать, которая в любой ситуации помогает. Это не значит, что я ею жонглирую, — она мне возможность дает в сегодняшнем своеобразном желе существовать. Я, как вы, наверное, уже поняли, не огрызаюсь, не злобный я человек,...

— ...абсолютно...
— ...к юмору расположен, трунить над собой умею, но власть люблю так, что скажу ей: «Извини, пожалуйста, но пиджак на тебе как на корове седло сидит. Итальянское носи — это лучше. Кто у тебя дизайнер? Зачем ты все время галстук чуть ли не в свой рост надеваешь? Ну нельзя так...».
«Я однолюб — у меня 11 театров было, а жена одна, и другой никогда не будет, во всяком случае, пока я не в маразме»
— Вы сказали, что у вас с детства порок сердца, но я слышал, что в молодости и чуть позже вы прилично выпивали — как это соотносилось?
— Ну что значит прилично? Без поводов, например, не выпивал никогда, а их бесконечное количество вечно находится: то съемочный день закончился — старшие товарищи уже «соображают», то день рождения, ведь это же не просто тяга к бутылке — ты, так сказать, в определенную систему втягиваешься. В любом театре после премьеры, после сдачи спектакля застолье всегда было, есть и будет, а тут награда, а тут отсутствие награды, что тоже, в общем-то, повод. Повод — с Гордоном встретились, понимаете? — много чего в одну секунду найти можно, другое дело, когда некая сумятица в жизни, в творчестве происходит, когда вдруг тебя обделяют, когда ты вдруг чувствуешь: Господи, что-то геноцидят, а русский протест в чем? Это, извините, стакан налил да выпил, тем более когда сегодняшняя власть так безнаказанно и хамски безапелляционно себя ведет — что в Украине, что в России, и они, мои соотечественники, эту несчастную плохую водку выпивают...
— ...поддельную в основном...

— ...потому что для них это единственный шанс себя человеком почувствовать: в пьяном угаре в рыло кому-нибудь дать или вдруг взять и на дерево около бывшего обкома партии, где теперь мэр сидит, помочиться. А вот я так тебе сделаю, и вот так — во какой я смелый! Если там не получилось, можно кого-то немножко прирезать, морду расквасить, в крайнем случае жену за волосы потаскать...
Понимаете, это протест на нижнем уровне нашего населения, потому что власть безнаказанна — во всем! Что бы она ни сделала, в отставку не уходит, что бы ни произошло — она сытая, довольная, все нормы бытия попирающая. Нам почему-то они по правилам жить предлагают — сами же, как падишахи, роскошествуют: это неправильно, но народ у нас задавлен. Понимаете, у нас ОМОН очень «ласковый»: армия у нас — 800 тысяч, а ОМОНа — полтора миллиона. На трех старушек, извините, 100 бывших внуков, которые по башке их дубасить будут, однако вон мусульмане на намаз в Москве у нашей соборной мечети собрались — их там почти миллион пришел, и этот ОМОН песчинкой оказался. Ну, и где вы, ОМОН, ау?! Понятно, где сила, поэтому сподручнее несчастного интеллигента после операции на сердце охаживать, Конкина или Лимонова, который — я уж не знаю, за что он борется — мне просто как типаж интересен.
— Классный писатель, правда?
— Я у него ничего, к стыду своему, не читал — во-первых, у меня свои какие-то вкусовые табу есть, а во-вторых, я еще столько из хороших беллетристов ХIХ-ХХ веков не прочитал.
— Он, однако, фигура...
— Как фигуру я его и наблюдаю — мне этого вполне достаточно. Меня тоже, наверное, кто-то так наблюдает, и мало кто мои статьи читал, а я о Паганини, о Чаадаеве, о Гоголе рассказы пишу. Кто-то меня только Шараповым, как вы сказали, видит, кто-то — Корчагиным, или тем и другим — и не более того, а я ведь, извините, пожалуйста, и пишущий человек, и кое-что знающий. Я однолюб, у меня в 2010-м супруга ушла, а через год 40 лет исполнилось бы, как мы вместе. У меня 11 театров было, а жена одна, и другой — заявляю! — никогда не будет, во всяком случае, пока я не в маразме. У меня трое детей, пятеро внуков — это что, не идеал? И я своему Отечеству верой и правдой служу. Да, в употреблении я не прост — еще инструкцию прочитать нужно...
— ...а кто сказал, что надо простым быть?

— Вот именно, а у нас все время твердят: будь проще, и народ к тебе потянется, но ко мне он и так тянется, потому что я с ним народным могу быть. В отличие от тех, кто непонятно из-за чего надуваться, как жаба, начинает, а все потому, что классики элементарно не знают. Вот если бы наши власть имущие своим детям и внукам сказки Андерсена читали, поняли бы, что власть всегда голая и обязательно мальчик найдется, который воскликнет: «А король-то голый!» — и все, чары уйдут. Вот и Конкин — тот мальчик, — не для битья! — который говорит: «А король-то голый!». Они бы Эрнста Амадея Гофмана о крошке Цахесе прочитали, которого красавцем, гением и умницей все считали, но стоило Бальтазару у него три золотых волоска вырвать и в камин бросить — тогда охраны-то не было! — все увидели, что он урод, ублюдок, а главное, это его любимая Кандида увидела, за которой Бальтазар ухаживал, а она уже замуж за этого Квазимоду выходить хотела.
Поэтому я счастлив, что родители меня к чтению приучили, и это без лишней дидактики сделали, задницу мою ремнем не упражняя, хотя считается, что до русского мальчика славянского разлива через задницу иногда быстрее доходит, чем если в ухо что-то ему говорить. И слава богу, что, вопреки традиции, которая исторически в нашем обществе сложилась, родители именно этим инструментарием не пользовались, и я счастлив, что с Гордоном сижу: мне хорошо, комфортно. Я не устаю — не от того, что такая трещотка: сижу здесь и рта не закрою, а потому что спешу с теми людьми поделиться, которые потом будут, дай Господи, нашу беседу читать, чтобы они поняли: от них секретов у меня нет.
— Я непростой вопрос вам задам. Вы признались, что после смерти супруги Аллы Львовны, которая от рака скончалась, от сумасшествия вас работа над новым спектаклем спасла. Трудно было жизнь после этой трагедии заново начинать, одному?
— Вы знаете, я православный, а Аллонька так просто воцерковленным человеком была, и та фраза библейская, которая нашим внутренним семейным девизом стала: «Радуйтесь! И в скорбях своих радуйтесь!», спасительным якорем для меня оказалась. Я вдруг почувствовал, что душенька Аллоньки, которая за меня всегда при жизни молилась, еще больше за меня там работает, — понимаете? Из жизни она на Пасху ушла, а люди православные знают: если в такие большие православные праздники это случается, человек сразу на небеса уходит — к Господу: смею надеяться, что Аллочка моя там.
Как это ни парадоксально, — прошу только меня понять! — с уходом Аллы я силу другого качества вдруг обрел, иную меру ответственности, хотя всегда достаточно ответственным по отношению к семье, к ролям был. Но здесь понял: если на диван сяду, — а повод более чем существенный — ко мне мои товарищи приходить будут, вместе со мной скорбеть... Стакан, второй, еще что-то, а дело где? — только оно спасти меня может...
Аллонька мне говорила: «Володечка, через два года у тебя юбилей — 60-летие, тебе бы все-таки подумать о нем надо». Хотела, чтобы спектакль я сделал, и он готов — «Муж, жена и сыщик» называется.
Супруга моя уже достаточно тяжела была... С репетиций я к ней бежал: и туда, и сюда, и какие-то бульончики готовил, и то, и се, то есть ее болезнь даже кухарить меня научила — я никогда этого не умел. Всегда Аллочка: она не работала и всем занималась — и мной, безусловно. Сейчас я очень много работаю, и силы мне — ее молитвами — Господь дает, и нет у меня в этом никаких сомнений, поэтому готов с Гордоном встречаться, шесть с половиной часов в Читу с моим сердцем лететь, где два клапана платиновых американских стоят. Кто-то после этого из самолета еле выходит — такой перелет, шесть часов разницы, а я бодрый, как мальчик, и на меня смотрят: Господи, Конкин! Наверное, прикидывается, что какая-то операция у него была, что супругу потерял... Не прикидываюсь, просто это тот жизненный тонус, который право жить мне дает.

Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Четыре года назад Аллу страшная болезнь унесла. Узнал о ней поздно — жена меня в проблемы не посвящала, всегда берегла, ограждала от всего, что могло бы из колеи выбить. Раз в году она обследование в Боткинской больнице проходила, и когда я спрашивал, все ли в порядке, неизменно отвечала: «Все под контролем, не волнуйся». Она активным человеком была, много внучками занималась. В последнее время похудела, но не сильно, я опять не встревожился, поскольку в течение жизни Аллочка за фигурой следила, периодически лишние килограммы сбрасывала. Лицо ее таким же прекрасным оставалось, болезнь его пощадила.
На какое-то время всех нас проблемы с моим здоровьем отвлекли: нервная работа на износ, спектакли, съемки, гастроли на операционный стол к кардиохирургам меня привели. Один сердечный клапан с детства плохо работал, а тут вышел из строя второй, я стал задыхаться, безумная аритмия началась. Операция прошла успешно, хотя и всю грудь искромсали, Аллочка меня выхаживала, спасала, а потом слегла... Я успел прощения у нее попросить за все, чем невольно обидел, за руку держал, когда она уходила...

Разбирая после смерти жены бумаги, один из ящичков трюмо открыл, знал, что Аллочка там наши письма друг другу еще со студенческих лет хранила, но ничего не обнаружил. В письмах много интимного было, того, что для чужих глаз не предназначено, и жена уничтожила их — не захотела, чтобы прочли даже близкие.
Другой Женщины в моей жизни уже не будет. Нет, я не женоненавистник и ориентацию не поменял, меня множество достойнейших дам окружает — красавиц, умниц. Это и актрисы, и те, с кем по делам сталкиваюсь, и молодые, и постарше: женщин я обожаю, но новую подругу себе не ищу — королева может быть только одна».
«Человек в эполетах мне о Корчагине говорил и распорядиться не забывал: «Маша, еще коньяку!». Мы с ним всю ночь выпивали, так как можно было такое устроить, когда уже во дворе камеры, в подъезде — камеры? Ты что делаешь, подонок?»
— У вас два сына-близнеца Ярослав и Святослав и дочь Софья — сыновья, насколько я знаю, художники-реставраторы и в десятку крупнейших, лучших реставраторов Европы входят...
— Ну, это их негласный какой-то рейтинг...
— Гамбургский счет?
— Можно и так сказать.
Из интервью журналу «Коллекция «Караван историй».
«Работал я много, дома бывал редко, но когда приглашения на фестивали, посольские приемы посыпались, всегда старался туда пойти с женой. Один видный дипломат, разговорившись с моей Аллочкой, не скрыл восхищения: «Володя, как же вам повезло! Нам бы таких жен иметь!».
Интеллигентная, тихая, умная, порядочная, она самым близким человеком для меня стала. Счастлив, что Аллонька согласилась себя семье посвятить, дому, с моими недостатками мирилась, а я, как и многие артисты, ангелом не был — случалось, и выпивал, и характер показывал. Воспитанием наших троих детей она занималась: это величайшая, ответственнейшая работа, на которую у меня времени не оставалось. Актерскую профессию и семейные заботы совмещать нереально — если бы дома сидел, ничего не добился бы.
Алла очень уважительно к моему труду относилась и этому научила детей. Внушала им: у папы иногда плохое настроение может быть, он может что-то не так сказать, пообещать и не выполнить, но вы прощать должны — работа у него очень тяжелая. Дети со мной и в театре, и на съемочных площадках были, видели, как мне успех дается. Мы с женой Господа молили, чтобы артистами они не стали, — это слишком черствый кусок хлеба, и чтобы его откусить, крепкие зубищи иметь надо. Моя история нетипична, я снизу вверх не карабкался, сразу главную роль получил и прославился, и многие двери потом открывались передо мной легко.
История о том, как на свет наши мальчики появились, удивительная. УЗИ тогда еще не было, и близнецов врачи не определили. Первый ребенок родился, акушеры жене говорят:
— Ну, вот и отмучилась. У тебя мальчик.
— Но мне еще что-то мешает.
— Что там тебе может мешать?
Хорошо, что не согнали ее со стола: когда через семь минут на свет второй сын появился, доктора обалдели.
Ярослав и Святослав еще в школе историей увлекались, с поисковыми отрядами на раскопки ездили. Был период, когда ребята всю нашу квартиру на «Соколе» всевозможными железяками завалили, из хлама мотоцикл с коляской собрали. Молодость и жажда действовать институты им заменили, еще в 90-х парни реставрационную мастерскую открыли, но, с другой стороны, ни Тропинин, ни Боровиковский академии художеств не оканчивали.
Диплом искусствоведа Святослав заочно получил — сегодня он владелец фарфорового завода, уникальные вещи производит.
Ярослав в Петербурге живет — бригаду возглавляет, которая реставрацией старой военной техники занимается, его работы в музее на Поклонной горе стоят. В отношениях у нас сложный период был, но мы его преодолели. В жизни всякое случается, но близкие, любящие люди должны уметь друг друга прощать.
София в православной гимназии училась, поскольку мы с Аллой — люди воцерковленные. Вокалом занималась, музыкальную школу по классу фортепиано окончила, но профессию юриста избрала. Все мои дети — работяги — так мы их воспитали».
— Газеты писали, что вы якобы в Ярослава из травматического пистолета выстрелили, — что это за история?

— Вы знаете, я на эту тему по одной простой причине говорить не хочу... Никто бы никогда не узнал, — и я рассказывать не собираюсь! — почему та глупость (действительно глупость!) произошла, если бы не наши друзья-милиционеры, которые со мной всю ночь коньяк пили, а утром 30 телекамер собрали. Ну кто-то же это сделал!
Понимаете, из меня козью морду сделать хотели. Никто бы ничего никогда и не узнал, потому что через полчаса мы с Ярославом обнимались и целовались, но это нужно было раздуть, показать, что Конкин — алкалоид какой-то, в собственных детей стреляет. Да что за глупость?! Я в кабинете человека в эполетах сидел, который мне о Корчагине говорил и распорядиться не забывал: «Маша, еще коньяку!». Мы с ним всю ночь выпивали, так как можно было потом такое устроить, когда уже во дворе камеры, в подъезде — камеры? Ты что делаешь, подонок? Ну, Господь ему судья — такого дерьма-то много по жизни бывало, да и кого сейчас предательством удивишь, а тем более за деньги? Когда электронные средства слежения вот здесь, в пуговице, любую ситуацию спровоцировать проще пареной репы — и здесь, и где угодно. Если надо где-то человека, похожего на генпрокурора России, заловить, исполнитель найдется, и никаких моральных запретов — лишь бы его убрать.
Вот и со мной в свое время какая-то война началась, потому что те мои статьи, которые раздражение вызывают, кто-то же читает. Еду, например, я с энтэвэшниками в Саратов — они обо мне фильм к 60-летию делали. Храм наш, где меня крестили, снимали, Дворец пионеров, бывшую квартиру — все замечательно, и параллельно в «Литературке» моя статья «Угоревший подле буржуйки» вышла — про сегодняшнее положение дел, политику, искусство и прочее. Ну и тут же в «Московском комсомольце» статья — без подписи, пошлая, гнусная, о том, что наш Вова Шарапов 60-летний (какова фамильярность, к тому же в апреле 60 мне еще не было) алкоголем балуется и в реанимации находится. Мой арт-директор в редакцию позвонил: «Вы че, обалдели, что ли? Он с энтэвэшниками в Саратове», а они: «У нас документы есть», значит, я раздваиваюсь, понимаете...
Все эти подлоги, мерзотины (как в Украине говорят, «ця мерзота»), к сожалению, общее место сегодняшнего бытия, и я полный идиот был бы, господа, — вот что значит хорошее воспитание! — если бы на это внимание обращал. Когда-то Антон Павлович Чехов нашего Ивана Крылова следующей фразой процитировал: «Пустая бочка гремит громче». Понимаете, уж лучше со своим дерьмом быть, чем вот так с бубном на потешение ходить. Они, наверное, ждали, что судиться я буду, что я... С мошкой этой? А-ха-ха! Вы что, с ума сошли? Господь им судья!
— Владимир Алексеевич, я от нашей беседы огромное удовольствие получил...
— Не лукавите?
— Нисколько — не ожидал, что актер может быть настолько глубоким...
— Миленький мой (смеется)...
— Спасибо вам, а напоследок, пожалуй, один вопрос задам. Вы себя несколько раз — я читал! — Дон Кихотом называли. Вы старомодным человеком сегодня себя чувствуете?

— Да, старомодным, но я никогда этого не чурался — напротив, мне всегда это нравилось. В детстве мне почему-то казалось, что ХIХ век — мое время, хотя там таких суперклозетов не было, не было «роллс-ройсов» и совершенно дивных средств информации, зато были Пушкин, Чаадаев, Салтыков-Щедрин, Достоевский... Зато Николай Васильевич Гоголь был, и когда его прозу читаешь, понимаешь: ну куда до него всем нынешним? Надо просто на коленях стоять, учиться и учиться, чтобы такие предложения, как поезда, из слов складывать.
Русскую словесность я обожаю и, кажется, недурно могу иногда свою мысль выразить, даже на бумаге, но писателем себя не считаю — в подметки никому из классиков не гожусь. Всю жизнь я учусь, и счастлив, что у меня это есть, а счастье это отчасти донкихотское. Почему в 60 лет я еще якобы с кем-то воюю? Просто хочу, чтобы чище было, чтобы меньше было лукавства, гадости, грязи, чтобы женщины были мужчинами обожаемы и чтобы мужчины на коленях перед ними стояли, цветы дарили и мадригалы сочиняли. Любая женщина ушами ведь любит и будет этими виршами, даже не очень удачными, может, косноязычными, наслаждаться. Чтобы мужчины, в общем, на колени встали, чтобы женщины этого коленопреклонения достойны были — вот чего мне хочется, поэтому, пока жив, этот крест нести буду (Корчагина ли, Дон Кихота, Шарапова, а скорее всего — Володи Конкина), на котором написано: Первой степени, за службу Отечеству. Почти что орденская лента Андрея Первозванного (делает вид, что для вечности позирует).
Фас! Нет, лучше так (в профиль). Нет, это пафосно слишком, давайте проще. Вот Гордон, вот я. «Здравствуй, Гордон» (пожимает руку). Вот так вот!..

 Витольд ФОКИН: «В конце ХХ века нас было 52 миллиона, а теперь — менее 40, считая и Крым, и Донбасс. По какой причине мы потеряли в три-четыре раза больше населения, чем за период Голодомора? Что произошло: девятибалльное землятресение, губительный мор, Всемирный потоп?»
Витольд ФОКИН: «В конце ХХ века нас было 52 миллиона, а теперь — менее 40, считая и Крым, и Донбасс. По какой причине мы потеряли в три-четыре раза больше населения, чем за период Голодомора? Что произошло: девятибалльное землятресение, губительный мор, Всемирный потоп?» Виктор ЧАНОВ: «Мы были немножко иначе воспитаны и сразу же взяли себе за правило: выигрывает команда и проигрывает тоже команда. В душе, может, каждый понимал, что товарищ дал маху, но никогда у нас не было такого, чтобы прийти в раздевалку и начать разборки: ах, это из-за тебя проиграли! Человек не робот — ему свойственно ошибаться...»
Виктор ЧАНОВ: «Мы были немножко иначе воспитаны и сразу же взяли себе за правило: выигрывает команда и проигрывает тоже команда. В душе, может, каждый понимал, что товарищ дал маху, но никогда у нас не было такого, чтобы прийти в раздевалку и начать разборки: ах, это из-за тебя проиграли! Человек не робот — ему свойственно ошибаться...» Актер Владимир КОНКИН: «Из меня козью морду сделать хотели — нужно было показать, что Конкин — алкалоид какой-то, в собственных детей стреляет»
Актер Владимир КОНКИН: «Из меня козью морду сделать хотели — нужно было показать, что Конкин — алкалоид какой-то, в собственных детей стреляет» Усталость — предтеча безразличия
Усталость — предтеча безразличия Идентификация Хмурого
Идентификация Хмурого Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги